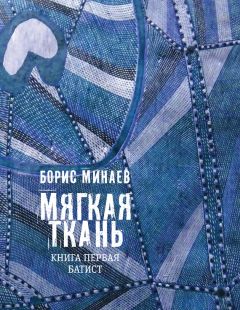Это была совсем крошечная станция, над которой стоял густой, мокрый, плотный и теплый туман. Где-то совсем рядом кричал петух.
Было шесть утра. Нестерпимо хотелось спать.
Полицейского искали очень долго, наконец он появился – злой, в расстегнутом кителе, видимо, подняли прямо с постели. Долго не мог понять, чего хотят эти люди и кто они. Никакие инструкции на случай войны ему еще не поступали.
– Вас высадили с поезда, потому что вы иностранцы? – наконец спросил он. – О господи, какие идиоты.
– Я не иностранец, я немец, – обиженно сказал его попутчик.
Француз хмыкнул.
– Считайте, что я вас зарегистрировал, – сказал он, отдавая им документы. – Или вы, граждане, желаете сегодня поспать в тюрьме?
– Нет! – ответил за них обоих Даня.
– А вам, молодой человек, – строго ответил жандарм, – я желаю как можно быстрее оказаться дома.
Когда они остались на перроне одни, немец пристально посмотрел на Даню. В этом взгляде была благодарность, но был и немой вопрос.
– Не знаю, – сказал Даня, – что такое на меня нашло. Но я бы не дал просто так вас побить. Это неправильно. Слава богу, оказался смелый кондуктор.
– Вы едете в Россию? – спросил немец-француз. – Ведь может так получиться, что мы с вами встретимся на поле боя… через некоторое время.
– Вы же подданный Франции! – удивился Даня. – Разве это возможно?
– Теперь я уже не знаю, все может быть, – со вздохом ответил попутчик и пошел искать гостиницу.
Даня долго смотрел ему вслед. Случай в поезде перевернул многие его представления о Европе. Она оказалась совсем другой, чем он думал.
И Даня… поехал дальше.
Теперь он не знал, хочет ли скорей добраться до Марселя. И хочет ли снова увидеть море. Плыть пароходом целых три дня показалось ему невыносимо скучным. Вначале он решил побывать в Вене, Варшаве. Затем изменил план и решил возвращаться домой по-другому: через Данциг, Лёбау и Вильно.
Поезда еще ходили по расписанию, и, хотя Даня ожидал со дня на день, что его могут интернировать, арестовать, отправить в какой-нибудь пересыльный лагерь и чуть ли не расстрелять, ехать короткими промежутками, с пересадками, остановками, каждое утро решая заново, куда направиться сегодня, ему показалось гораздо безопаснее и надежнее. Он застревал в маленьких городках, ночевал в дешевых пансионах, завтракал в привокзальных буфетах; десятки ратуш, магистратов и мэрий, сотни церквей и костелов, станций проплывали перед глазами, он вдруг почувствовал себя в потоке, он видел много семей, которые точно так же, как он, еще вчера, еще несколько дней назад спокойно отдыхали, гостили у родственников, купались, загорали, а потом вдруг снялись с места и поехали с сумками, чемоданами, детьми, престарелыми мамашами, хромыми дедушками, сиделками, нянями, целым табором, пересаживаясь с поезда на поезд, тратя последние деньги, заполняя все летние салоны, кафе и рестораны, где они ели, пили и бурно, мрачно, истерично обсуждали свой бюджет, свои отношения, свое будущее, текущую политику, перспективы войны. Всех интересовало, когда она кончится и когда будет побежден враг, неважно, кто подразумевался – немцы, французы, австрийцы, русские, англичане, – враги были у всех свои, но все они вместе, вся эта потревоженная, взбаламученная, сошедшая с ума Европа требовала ответа и, не находя его, куда-то спешила, а спеша – оставалась на месте. Общее движение захватило всех: во Франции он видел сборные пункты, где формировались батальоны, тысячи людей, заполняющих маленькие казармы, теснящихся на улице, уныло марширующих по шоссе, лежащих в чистом поле, прямо на траве, на пшенице или на клевере, со всей амуницией, оружием, вещмешками; в Австрии, выйдя со станции, он сразу упирался взглядом в толпу, подобострастно окружавшую офицеров в золоченой, невероятно богатой форме, в старомодных головных уборах, со стеками и кортиками, саблями и рапирами на ремнях, они были похожи на дорогих лошадей, у них был одинаковый взгляд – нервно-рассеянный, снисходительно-встревоженный, вокруг них увивались девицы, дамы, мамаши всех мастей в особых нарядах, запах духов был настолько силен, что кружилась голова; эти австрийские офицеры не занимались формированием команд, это делали пузатые прапорщики, которые на разных языках – мадьярском, венгерском, сербскохорватском – зычными голосами собирали на площадях разношерстный сброд, которому вскоре суждено будет превратиться под командованием доблестных офицеров в австрийскую армию. Даня удивлялся, что все эти люди – а их было так много порой, что они закрывали все видимое пространство до горизонта, – ехали умирать, и он, в сущности, тоже, ведь и его заберут на фронт, и ему дадут в руки оружие, если, конечно, вообще возьмут: евреев всегда призывали неохотно. Впрочем, и здесь – в Инсбруке, Граце, Зальцбурге – его провожали подозрительными взглядами, но он не обращал внимания – оказалось, в толпе так легко затеряться, особенно ему, бедному студенту, путешествующему почти без вещей, – подолгу сидел на площадях этих маленьких городков, где официанты выставляли все новые столы, накрывая их белыми скатертями – наплыв был столь велик, что деньги текли рекой, – сидел и смотрел на эти старые, вечные дома, на черепичные крыши, острые шпили, на тающие в небе зыбкие и благородные очертания Европы; Даня хотел запомнить ее, запомнить буквально все, каждую деталь и каждую краску, какая-то странная, тревожная тоска, сосущая под ложечкой, подсказывала ему, что он больше никогда этого не увидит, не прикоснется, не потрогает, и он всем своим сердцем хотел дотронуться до всего, что видел, – странная, мятущаяся, всклокоченная, нервная, раздражительная, долгие ночи уже не спавшая, склонная к рыданиям и смеху, вздыбленная Европа казалась ему еще милее, еще роднее, чем та, прошлая, застывшая и спокойная…
Это было странное путешествие, продолжавшееся почти месяц. Даня сильно поиздержался. Но выхода не было, он сам выбрал такой длинный путь домой и не жалел об этом.
Почти в каждом городе Каневский покупал открытку или целый набор на память, иногда это были гравюры, иногда фотографии, изображавшие главную площадь, или главный собор, или иную достопримечательность: в Инсбруке, например, это была гора, в Мюнхене – Пинакотека; практически везде он заходил в музеи и картинные галереи, если они были открыты, не миновал и зоопарков, парков, лодочных станций, каруселей, смотровых площадок, карабкался по лестницам на все колокольни, покупал иллюстрированные дешевые журналы с карикатурами то на немцев, то на французов, то на Николая II, то на Франца Иосифа, то на Вильгельма, рассовывая по кармашкам своего необъятного саквояжа эти картинки и иногда сам недоумевая, что за страсть его охватила; впоследствии, в течение всей своей жизни, он будет постепенно расставаться с этой коллекцией – часть подарит знакомым и друзьям, женщинам и детям, часть продаст букинистам, часть утратит при переездах, но коллекция все-таки не исчезнет совсем: Берлин, Варшава, Вена, Париж сохранятся в ящиках стола в виде закладок в толстых томах его библиотеки, на дне чемоданов, в коробках из-под обуви, на шкафах, под слоем газет. Многие из этих открыток имели его автограф, он посылал их домой, не надеясь, что скоро дойдет и дойдет ли вообще: дорогие мама и папа, я скоро приеду, не волнуйтесь, привет из этого города, где я остановился на один день… дорогие мама и папа, вам пишет ваш блудный сын Даня, не обижайтесь на меня, не волнуйтесь, я уже почти приехал, осталось потерпеть еще одну недельку – эти открытки он хотел оставить детям, дочерям и сыну, и, когда те говорили: ну папа, ну это опасно, давай выбросим на помойку, ты же знаешь, какое сейчас время, он отвечал ласково, но твердо: дорогие дети, этим открыткам уже много лет и если я до сих пор жив, то, может быть, и благодаря им тоже. И все же они исчезали одна за другой: Будапешт, Грац, Данциг… исчезали, как годы его жизни, полные сил и озорства, мужества и терпения, полные всего того, что составляет жизнь каждого мужчины, дожившего до зрелости, но тогда Даня этого не знал, тогда он просто прикидывал свой дневной рацион из расчета: чашка кофе, круассан или ватрушка, тарелка супа, вечером кусок хлеба и яблоко, если повезет, и открытка, обязательно открытка, одна в день. Иногда это были не городские виды, а какие-нибудь дамочки, одетые по моде тех лет, сценки любви, всякое озорство, «люби меня, как я тебя», но обязательно с названиями, он катастрофически не мог запомнить названий, поэтому и покупал открытки, чтобы не забыть, чтобы оставить навечно в своей памяти эти дорогие сердцу места, эту магическую географию. «Что же происходит, – спрашивал он себя ночью в неудобных прокуренных номерах, где иногда просто не удавалось заснуть, – с тем же успехом я мог остаться там, ведь Мари думает, что я давно уже дома, ждет письма, волнуется, а я все еще гуляю, брожу, трачу последние деньги, путешествую, как турист, может быть, все-таки я должен был остаться?.. Нет… И откуда это непрестанное горькое чувство последней радости, последнего свидания, ведь Европа не женщина, не живое существо, а конгломерат причудливых впечатлений всего лишь, но почему мне кажется, что я ее тоже никогда не увижу, почему?»